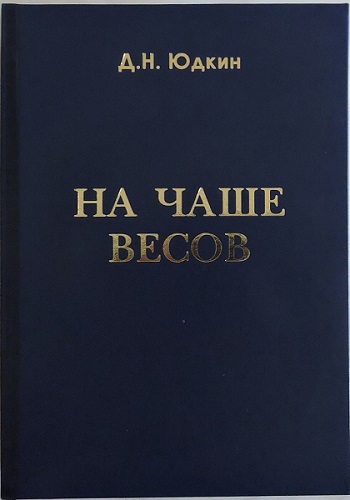"Июльская спэка" (рассказ. часть вторая). Дмитрий Юдкин.
– А Порошенко какой тварью оказался! Против собственного народа армию заставил воевать.
– Чего еще от такого ожидать? Упырь кромешный! Кровью людской вдоволь упиться, человечинкой вдосталь нажраться! Они без этого существовать не могут, упыри проклятые. Их обычными общепринятыми мерками мерить ни в коем случае нельзя. Что для них добро, совесть, жалость? Нет у них в сердце ничего подобного, и потому не ценится оно ими абсолютно. Деньги, деньги, деньги – с ними связаны все их главные мысли и самые волнительные переживания. Первоначально страну нашу до нитки обобрали, экономику обглодали до белых косточек, после чего, крови им нашей понадобилось, и чтобы побольше. Упыри, одним словом! Упырюки! Нелюди!
– Неужто, ничего их не остановит? – всплеснула руками женщина.
– Мы остановим! – пообещал Колька: – Заткнем им хлебалку добрым чопом навсегда, до Киева б только нам добраться.
– Чтоб паразиту шоколадному Порошенке, всей банде его – Яценюку, Ляшку, Авакову, Турчинову, Парубию и другим тягнибокам, чтоб им всем в аду гореть! Чтоб им все слезы наши отлились, когда их черти будут поджаривать на адском вечном огне, чтоб эти слезы в смолу горючую превращались и жару нестерпимого пламени поддавали!
– Отольются, не переживай, Алексеевна! Ох, и отольются! Не рады будут, что на белый свет появились – на Колькиных щеках заиграли желваки: – Поверь, не зря мы за оружие взялись, не зря столько хороших ребят свои головы сложили, мы упырям еще здесь, на земле ад устроим. Перед тем, как они отправятся в него до скончания веков.
«С Коли сейчас хоть картину рисуй!» – залюбовалась молодым соседом Алексеевна: «Настоящий русский солдат! Всегда он у нас такой был – за правое дело горой. Ни один враг с ним за всю историю не совладал. Оттого, что Бог всегда на стороне правды».
Коля Анисьев смотрел вперед, куда-то в невидимую даль, и глаза его выражали такую ненависть, что она не пожелала б себе, чтобы ее когда-нибудь кто-то возненавидел с подобной силой. Прям, огнем глаза горели. Столько ярости в них и неукротимого гнева.
«Орел! Защитник!»
Вдруг Алексеевна подумала о своем зяте, Сергее, и ее родном внуке, Галинином и Сергеевом сыне, Викторе. Они не стали воевать, защищать свой родной город. А Сергей ведь не старый еще мужик, сорок пять всего. Крепкий, будто из железа выкованный, спортивную форму держит, штангою в клуб накачиваться ходит постоянно. Виктор, внук Алексеевны, одинаковый по годам с Колей, ему аналогично двадцать два. Никогда не пил, не курил, здоровенный парняга, как и отец, спортом с малолетства занимается. Сейчас сидят в Воронеже и тревожатся вдали от войны, что с бизнесом у них дела никак толком не налаживаются, да заодно переживают за сохранность имущества, что в Луганске осталось. А ребята, кто вступил в ополчение, не то, что нажитого добра, хозяйства разного – жизней своих не жалеют, чтобы город от бандеровской напасти отстоять. И за них, за Сергея с Виктором, за Галину, за нее, Любовь Алексеевну Мякишеву, за всех луганчан. Сама Алексеевна, будь она мужчиной, ни за что не уехала, а направилась бы вместе с героическими ребятами, наподобие Коли Анисьева, свой город оборонять от врага. А если и женщина, только помоложе будь, годков тридцать если с плеч долой, в медсестры, в госпиталь военный попросилась бы, раненным бойцам помощь оказывать. Все для победы над врагом пользу принесла б. И не похоже, что Сергей с Виктором у нее из разряда трусов, однако ж… Однако, чем они лучше Коли Анисьева, или других ребят из мирной жизни добровольно ушедших в горнило войны? Или чем Коля, идущий сейчас рядом с нею с автоматом на плече, хуже ее зятя и внука?
Неприятные мысли омрачили лицо Алексеевны, оно приняло угрюмоватое выражение, и застыло неподвижной маской.
Мысли возникшие сейчас, возможно, давно зародились где-то в одном из укромных уголков ее подсознания, но не предоставлялось им подходящего момента для оживления их в процессе раздумий. Они уйдут, Алексеевна обязательно их спрячет, вернет туда, глубоко-глубоко, в темноту, где они сидели ранее, и постарается больше никогда не извлекать наружу даже в чем-то похожие мысли. Чересчур горьки и болезненны они для ее души. Нет, они ей противопоказаны категорически, если она дальше собирается жить нормально, без внутрисемейных встрясок. Однако они могут выскочить в поток осмысления и без ее ведома, точно так же, как сейчас. И точно так же, как сейчас, ей будет горько… и почему-то стыдно. И перед Колей Анисьевым в том числе… Потом, через определенное время, ей, наверное, будет стыдно перед вдовами и матерями, погибших в сегодняшних боях ополченцев.
Неприятные, горькие мысли.
«И не надо об этом думать, не надо» – вразумляюще прикрикнула на себя Алексеевна: «Хуже от этого будет всем, а мне хуже других. Сергею виднее, каким образом распорядиться собственной жизнью, а так же жизнью своего единственного и любимого сына. И Галина все прекрасно понимает. Не маленькие. Значит, имеется у них и своя правда, которая им ближе и понятнее правды людей, оставшихся здесь, в осажденном врагом Луганске. Да и не один Сергей такой, не один он решил держаться подальше от этой войны. Сотни тысяч людей из Луганской области выехали в Россию. И среди них, кабы не более трети, молодые здоровые мужики».
Алексеевна отперла ключом калитку и вошла во двор. Большой пятикомнатный дом (кухня, ванна, туалет – отдельным счетом), обложенный белым кирпичом. Флигель, состоящий из двух комнат, используемый семьей, как летняя кухня. Бетонный погреб, с покатой крышей. Старый с глиняными стенами сарай, строившийся еще прадедом Степана. Между строениями залита бетонная площадка. Надо всем этим двориком – навес, обвитый виноградной лозой. С середины мая до первых чисел сентября, в его прохладной тени, на свежем воздухе, любила обедать и ужинать большая и дружная семья Мякишевых.
За бетонной площадкой начинался небольшой огородик. На нем садили для нужд семьи: помидоры, огурцы, капусту, баклажаны, картофель, тыкву, немного зелени: укроп и петрушку.
Родной дом. Вот уже уже сорок восемь лет, сделавшийся им. Ровно столько, сколько времени минуло с того часа, как Степан Мякишев ввел под его крышу смущающуюся молодую жену. Жили они вместе с его родителями, Владимиром Ивановичем и Прасковьей Викторовной. Надо сказать, хорошо жили. Одной дружной семьей. Настоящей, не для близиру показушного перед соседями, а будто душой и сердцем в воедино в ней срослись. Когда и беды, и радости делятся на всех поровну, когда человек в ней любит каждого из членов семьи, как самое себя. По-христиански, по-православному. К слову заметить, родители у Степана оба верующими людьми были, и невестку свою постепенно, шажок за шажком, приучили в храм Божий ходить. С сыном в этом вопросе не сладили, на все их прозелитские разговоры он до седых волос лишь посмеивался, крутил головой, и стойко держал в голове свои личные убеждения. Но, хотя сам церковь на службы не посещал, жене своей туда ходить не возбранял, с уважением относясь к ее душевной склонности. Они с мужем редко когда ссорились. Не скандальный был человек, истинный сын своих родителей. Никто своего «я» в семье Мякишевых поперед других не выпячивал. Оттого, скорее всего, и жили они так хорошо, в полном согласии. А при определенных несхожестях во взглядах на какой-либо вопрос, раздор примирялся на корню возникновения. «Худой мир, лучше доброй драки» – любила приговаривать свекровь, Прасковья Викторовна – главный миротворец и хранитель сердечного согласия под крышей Мякишевского дома. «Терпение, и только терпение к друг дружке делают семью счастливой, других рецептов у Бога нет» – мягко, ненавязчиво с первых же дней поучала невестку свекруха. И у них получалось так жить. Жизнь, прошедшая в этом доме, Алексеевне всегда исключительно только светлым вспоминается. И детей здесь своих они со Степаном вырастили, на ноги подняли, в жизнь широкую отсюда направили, сделав для их воспитания все, что смогли, на сколько сил и ума у них хватило. А когда подоспело время, и остались они вчетвером, несравненно тише зажили. Ушла из дому молодая Мякишевская поросль, ушли из дому напористые желания и требования к жизни, к миру – свежие, не обгоревшие, не обломанные, не ведающие покамест своих пределов. За чередой безоблачных лет, прожитых в тишине размеренных дней, вторглась в их судьбы и черная полоса. Впрочем, вполне ожидаемо. Согласно непреложному закону человеческого бытия. Угасло дыхание двух хороших людей, ушли из жизни ИХ старики. И как-то необъяснимо быстротечно все произошло. Первой заболела Прасковья Викторовна. Поболела чем-то непонятным никому – ни врачам, ни людям – с месяц, почахла-почахла и отдала Богу душу. Через полгода помер Владимир Иванович. Подобно своей супруге незаметно ушел. Как и болел, тихо. В один из пасмурных октябрьских дней просто не проснулся утром. В нашем народе существует поверье, что так обычно умирает человек, у кого совесть перед людьми и Богом чиста. Долго им потом со Степаном дом казался невосполнимо опустевшим. Не хватало в нем очень суетливой беготни вечной хлопотуньи Прасковьи Викторовны, тревожисто не наполнялось его пространство густым басом Владимира Ивановича, в степенных его разговорах «за жизнь». Светлая им память обоим!
Степан умер от рака легких через четыре года после похорон своих родителей. Надолго тогда на Алексеевну навалилась ночь непроглядная. Дети от нее в те месяцы почти не вылазили. Как признались впоследствии, обязательные дежурства у нее между собою распределили. Андрей три недели у матери вместе со всей семьею гостил, отпуск за свой счет на заводе брал. Отошла она тогда душою, дети помогли, не оставили ее сам на сам с горем-горьким, непоправимым. Неплохих все-таки они со Степаном детей вырастили, чутких и душевных. И Алексеевна оживала – потихонечку, помаленечку, интерес к жизни начал в ее душе опять просыпаться. Находя радость от нее в счастье детей и внуков. А заодно обретая заново счастье от их любви и внимания…
Теперь о той жизни остается лишь сладко вздыхать, война в их край пришла. С бомбежками, с обстрелами, смертями, увечьями, с беззаконием и беспределом, невозможностью предугадать очередность дел на день завтрашний. И чувствовалось Алексеевне, сегодняшняя война на Украине – это только начало, преддверие каких-то катастрофических событий всемирного масштаба, чувствовалось, что возврата к прежней жизни в ближайшем будущем не предвидится, это всего лишь начало скорбей… Исток великих бед и горестей. Но ничего, Господь укрепит!
– Ба –а – би – ишка – аа!
Из-за угла дома (крыльцо находилось с тыльной его стороны, смотря на огород) выбежал маленький человечек, беленькая девочка трех лет. Одетая в желтенькое платьичко, на ножках – белые гольфики в синюю полоску и красные сандалики. На кудрявой головке девочки, в такт шагам ее бега, качались два больших белых банта.
– Ба – а – би – ишка – аа!
Человечек бежал к ней, задыхаясь от смеха и счастья, быстро перебирая по земле маленькими ножками, заранее широко расставив свои ручонки для объятий.
Следом за человечком, из-за того же самого угла, выскочила Верочка, шестнадцатилетняя соседская девочка, оставленная дома у Алексеевны присматривать за малышкой. Залившаяся румянцем во всю щеку, оттого, что не уследила выходку, резво бегущей сейчас к калитке, трехлетней девочки.
– Вот стрекоза! – только и смогла она вымолвить в свое оправдание.
Подбежавшая к Алексеевне девочка, обхватив двумя крошечными ручонками ее ногу, заливисто смеясь, смотрела на нее, задрав вверх звенящее колокольчиками детского смеха личико.
Алексеевна запустив руку в мягкие шелковистые волоса, ласково взъерошила их, так же весело и беззаботно рассмеялась. Забыв на минуту вообще обо всем на свете. Потом, поддавшись наплыву чувств, выпустила сумку, и подхватила внучку на руки, целуя ее смеющееся личико.
Почти невесомое родное тельце, теплое и нежное. Детские глазки смотрящие на нее с таким безотчетным доверием и любовью, как могут смотреть только маленькие дети на своих родных. Они верят, что ни мама, ни папа, ни бабушка с дедушкой никогда не причинят им зла, нет, даже физически не способны сделать им ничего плохого, а будут всегда заботиться о них, оберегать и баловать своим вниманием, и самое важное – всегда их будут любить. И это у детей происходит безотчетно, без раздумий и каких либо логических умозаключений, своим детским невинным разумом они понимают, что именно так оно есть и так должно быть, причем всегда.
Держа Аню на изгибе правого локтя, Алексеевна наклонилась, левой рукой достала из сумки батончик «Сникерса» (если верить телерекламе самое любимое детское лакомство) и вручила его внучке. Девочка взвизгнула от восторга, и, не отлаживая «сказочного удовольствия» в долгий ящик, стала срывать с конфеты обертку, что-то лопоча на своем трудно переводимом языке.
– Анечка, почти сразу, как вы ушли, уселась на подоконник, и стала вас поджидать, глаз с калитки не сводила. Все: «Бабушка и бабушка» … – с виной в голосе говорила Верочка: – А потом – прыг-скок, и побежала… Не успела я и глазом моргнуть, а она уже на пороге… Вот стрекоза малая! Бабушка Люба, пойду я домой?
– Иди, конечно, голубушка. На и тебе гостинец – Алексеевна вынула из сумки еще один «Сникерс», и вручила его незадачливой «няньке».
Войдя в дом, женщина опустила девочку на пол, и, погладив ее по головке, отправила ее играться в зал. Сама, оставив сумку на кухне, пошла в свою комнату.
Сняв одежду, в которой «ходила в люди», облачилась в старенький застиранный ситцевый халат.
Алексеевна уже собралась возвращаться на кухню, когда взгляд ее остановился на фотографиях, висевших на стене. Здесь и ее с мужем фотография свадебная, и родители Степана, Владимир Иванович и Прасковья Викторовна, и фотографии ее детей – Андрея, Галины и Светланы. Есть и с внуками.
Женщина бегло посмотрела в родные лица, а на портрете младшей дочери взгляд ее замер надолго.
«Светочка! Доченька! Что с тобой? Все ли у тебя в порядке? Почему молчишь, почему не звонишь, почему на звонки не отвечаешь? Зачем поехала в сторону врагов? Чем бандера так присушил тебя к себе? Жива ли ты, моя хорошая, красавица моя ненаглядная?»
Алексеевна смотрела на фотографию, и разговаривала с изображением на ней, как с живым человеком. Но Света только улыбалась и молчала.
«Доця, доця»…
Алексеевна, помассировала, потрескивающие болью виски вьетнамской «Звездочкой», вытерла пальцы от остатков бальзама платочком и, выйдя из спальни, направилась на кухню печь, обещанный утром внучке, пирог. Мимоходом глянула на малышку. Анечка сидела на полу и, деловито сопя, выкладывала из большого картонного ящика игрушки.
Пироги у Алексеевны всегда выходили на славу, и были одним из ее коронных блюд. И знала она, что хвалят их не только исключительно из чувства приличия.
Она сняла марлю, накрывавшую большую металлическую чашку. Убедившись в том, что тесто подошло должным образом, снова накрыла чашку марлей, и села за стол нарезать яблоки на мелкие дольки.
Эта работа не заняла у нее долгого часа. Тем более, что сперва она подготовила начинку к пирогу, а для компота нарежет яблок уже после того, как засунет пирог в духовку.
Но прежде, чем браться за тесто, она решила, снова взглянуть на внучку, проверить, чем она занимается, чего-то долго ее было не слыхать. По обыкновению, она минимум уже раз пять забежала бы на кухню. Шустрая росла, вся в Светочку. Та маленькой такой же была, как метеор. Только и успевай за ней следить, чтоб шкоду какую не учудила.
Алексеевна вытерла руки о передник и пошла в зал.
Девочка, высунув язык от увлечения своим делом, строила дом из кубиков. Слышно, как что-то тихонечко бормочет себе под нос. Неразборчивое, но что-то очень веселое и задорное.
Почувствовав на себе взгляд, девочка подняла головку, увидела бабушку и глаза ее радостно засияли. Она пальчиком указала на свои старания.
– Ба-аби-ишка! Дои-ик! Мой дои-ик!
– Красивый домик – похвалила бабушка: – А кто в нем живет?
– Я жиет – ответила девочка.
– А кто еще с тобой, Анечка, в нем живет?
– Мами, папи, бабишка, меженок, киса, бабака – обстоятельно, с расстановкой начала перечислять трехлетняя девочка жителей, возведенного ею из кубиков домика. С дотошной обстоятельностью, будто они, и вправду, могли разместиться внутри ее строения.
Когда Алексеевна услышала, с какой любовью внучка сказала о папе, о маме, и о ней, она почувствовала, как ее глаза невольно повлажнели. Трехлетней девочке, по малолетству, было невдомек, что натворила война проклятая с родной семьей. Разбросав ее по сторонам, возможно навсегда. Женщина украдкой прижала краешек передника к уголку левого глаза, потом правого. Промокнув выступившие на ресницы слезы.
– Ну, играйся, играйся, Анечка… Бабушка пойдет испекет для Анечки вкусный пирог… С яблочками…
– Яблошка-а… – радостно, на вдохе, повторила за ней девочка. На выдохе, не менее радостно, присовокупив: – Пио-ох!
– Пиох, пиох… Вот такой вот пиох… – улыбнулась детскому лепету Алексеевна: – Пойду делать пио-ох...
По пути на кухню с лица женщины незаметно ушла улыбка, лицо приняло задумчивое выражение.
«Пиох, ох да пиох»
Алексеевна рассыпала из пригоршни по поверхности стола, на скатерть муку. Потом взялась за тесто. Помесив его в миске, подсыпая к нему сухую муку, потолкав кулаками, оторвала от сбитого кус. С ляпом хлопнула его в центр стола. Стала его мять, катать, вываливать в муке. Вылепила лепешку, взяла в руки скалку и принялась раскатывать ее по ровной твердой поверхности.
Сама того не замечая, Алексеевна вкладывала в дело чрезмерную своему занятию силу. Стол дрожал от напряжения. А она давила и раскатывала.
«Как же так вышло, – думала женщина, глядя на податливое под давлением скалки тесто: – что война между своими затеялась? Как могли такое допустить, что одна половина страны пошла на вторую с боем, и ни с того, ни с сего люди, словно озверев, за милую душу, убивать себе подобных стали. Ведь все годы нэзалэжности мирно жили, ничего и в помине не предвещало сегодняшнего кошмара. Или правду говорит Колька, заговор против Януковича составился чересчур обширным, и людей в него было вовлечено намного больше, чем мы даже можем догадываться? Но, а службы компетентные – СБУ, разведки разные – куда смотрели, где они были? Неужто, служаки, прошляпили подготовку переворота? Не один ведь день он готовился, не могла у заговорщиков без проколов их авантюра подлая идти, где-то да и прокалывались. Или Януковичу не докладывали что ли? А должны были обязательно. Поскольку в их кровных интересах. Зарплаты-то у них, у служак, как полагается – солидные, за место хлебное должны были всей шкурой своей дрожать. А чтоб не потерять его, бдительность требуется всюду производить, на каждом квадратном метре. Хотя, возможно, за тысячными взятками и разучились эти эСБэУшные служаки свои прямые обязанности выполнять, а только на вымогательство взяток и остались гожие? Но ей самой сомнительно такое предположение… Государство давно бы уж развалилось, прахом пошло. А может, всего лишь по причине дурости и тупости, посаженного над государственными службами начальства? Сейчас ведь, что не дурак, так того в начальники всем миром и пхнут. Умного затопчут, а дурака выпхнут на верха непременно. Тоже ведь заговор, можно сказать, только против самих себя. Кумовство и блаты везде развели, по всей стране. Дурак своему дураку плечо подставляет, чтоб тому сподручнее по служебной лестнице сделалось взбираться. И в СБУ, наверное, та же картина. Вот и получили!..
А Майдан вроде и заваривался из-за того, что бандерам дюже в Европы захотелось, но как-то подозрительно быстро все вспыхнуло-полыхнуло. Как будто они какого-нибудь повода для своего Майдана только и ждали, причем, любого. И даже если допустить, что так, приспичило им до нетерпежу в Европу, бандерам этим, но остальные как? У Востока страны никто не поинтересовался, хотим мы туда или нет. Почему не спросили у нас? Будто мы не украинцы, не в одной с ними стране живем? Но не привыкли они с чужим мнением считаться: хочуть в Европу и все на том. («Я сказав» – вспомнила Алексеевна своего нелюбимого зятя). Что там говорить, дюже вредный народ – бандеровцы, сплошные от них неприятности. Они хочуть, а в той Европе их ждут не дождутся, прям, с распростертыми объятиями навстречу бегут, встречают. Артисты самодеятельные! Однако между своими сплоченные, этого у бандеров не отнимешь – не нам чета.
Как Алексеевна и говорила соседу Кольке, она, и в правду, сразу смекнула, что добром злополучный Майдан не кончится. С первого дня смекнула. Больно уж гигантскую людскую массу с места стронули, громадищу. Уж если чего подобное пошло-поехало – просто так, одним начальственным окриком, не остановишь. Телевизор и страшно было смотреть, и, чего греха таить, любопытно. Преимущественно, все-таки страшно. Страшно – а не отпускал, цепко когтями любопытства прихватывал. Как только по времени планировалось включение трансляции с Киева, Алексеевна, словно по команде извне, переключала с какого-то своего очередного сериала на новости с Майдана. Потом совсем забросила сериалы смотреть. Не до чьих-то бурных фантазий, когда в реальной жизни разворачиваются события, предназначенные повлиять на твои остаточные дни. А события все накручивались, и накручивались, одно важнее другого, не успеваешь за ними уследить, не то, чтобы их толком обмозговать. Судьбоносные. Ломающие привычные представления о жизни. Изначально и не верилось в полной мере, что такое может в Киеве в самом деле твориться, потом, постепенно, с каждой последующей телевизионной трансляцией, попривыкли к новой реальности – ничему уже не удивлялись, принимали за должное.
Милицию-то как били! И ногами, и палками, и цепями. А милиционеры почти и не сопротивлялась, только шеренги держали, равняли ряды. Неделю их так мутузили на потеху всем уркам страны. Уже совсем показалось, что для милиции, роль мальчиков для битья – самая ее роль. Будто для этой цели ей зарплату из госбюджета и начисляют. Ни в какой стране ничего подобного произойти не могло. Ни в Америке, ни в Германии, ни во Франции, ни в России, абсолютно ни в какой. Ибо милиция – люди государственные. Получается, в ее лице все государство наше унижается, а весь мир через телевидение и интернет эту позорную картину наблюдает.
Но дней через десять, нашелся какой-то решительный генерал в Киеве и отдал приказ прекратить вопиющее безобразие в сердце столицы. Посреди ночи начали операцию по наведению порядка. Тут уж Беркут отвязался на полную катушку. Чересчур много злости в них накопилось за предыдущие дни унижений от боевиков Правого Сектора. Лупасили на площади Нэзалэжности всех подряд, кто под руку подворачивался. (Алексеевна, помимо коротких отрывочных репортажей в теленовостях, посмотрела кинохронику в интернете на Светланином компьютере, будучи у дочери в гостях). Студент – не студент, журналист – не журналист – дубинки по спинам да по головам только так и ходили, без персонального разбору личности. Толпа «протэстувальныкив»,* вопя дикими голосами: «ганьба»,* разбегалась – у кого куда глаза глядят. А их лупасили и гнали, гнали и лупасили. Молотильная лавина с гор сошла. Другое название этому зрелищу не представлялось. Видно было, что ожило государство, боле не шутит, работает его карательная машина. И вдруг, совсем неожиданно, когда площадь почти до конца очистили от евромайданувшихся «протэстувальныкив», Беркуту от его начальства поступила команда «отставить», и вернуться на свои прежние рубежи, будто той ночью ничего и не происходило. Что это было? Зачем? Почему спецназу не дали доделать его почти завершенную работу? Для Алексеевны эти вопросы до сих пор оставались неразрешимой загадкой.
На следующий день, с самого раннего утра, от негодования захлебывались все мировые средства массовой информации, известная вещь, ридна* интеллигенция подняла хай до небес. Отовсюду крик и визг раздавался, слюна во все стороны брызжала. «Милиция била детей на площади Нэзалэжности! ОНИЖЕДЕТИ»! Жалостливые причитания перемежевывались возмущением бездушностью властей. Забугорные газеты и телевизионщики, естественно, в этом вопросе состояли в запевалах, однако и украинские ни в чем от них не отставали. (Тут Алексеевна вспомнила недавний разговор с Колькой Анисьевым). А ведь точно наши телевизионщики участвовали в заговоре! Как пить дать, участвовали! И цензура, обязательным порядком положенная над их взвываниями и визгами, отсутствовала напрочь. А ведь по сути антиправительственная агитация была налицо, ничем не замаскированная. Не просто так журналюги старались! Воздействовали на психику, слезу из телезрителя выдавливали по поводу страданий борцов за европейское будущее, налягали на пробуждение справедливого негодования – переиначивая черное белым. И главное: нагло, самоуверенно. Никто из них о том, что эти самые «онижедети» вытворяли прежде по отношению к милиции, даже не заикнулся. Молчали об этой стороне Киевской драмы и на правительственных каналах. От толкования смысла произошедших событий телевидением закипали мозги – настолько их оценка была абсурдна и далека от истины.
Не иначе как во многом благодаря агитационному напору в СМИ, Майдан всколыхнулся по-новой, насыщаясь добавочной силой. К площади Нэзалэжности, спозаранку, с разных улиц и переулков стекались люди. Тысячи и тысячи. Только теперь лозунги с требованием немедленного зачисления Украины в Евросоюз сменились лозунгами другой направленности, на первый план выдвинулся:
«Банду гэть»!
Многоголосо, ревом ревущая этим девизом, манифестация выдвинулась к центральным улицам столицы. До отвала насытившись людьми, Евромайдан перешел к действиям.
В его главарях с самого возникновения стали ходить Яценюк, Кличко, Тягнибок. Речи толкали, командовали, важничали, надувая щеки. Рядом с ними, иногда крутился лепший друг Юльки Тимошенко, «Лыско» Турчинов. Их в основном телевидение и показывало – и по украинским, и по российским каналам – не выпуская главных евромайданщиков из зоны особого внимания. Оно и понятно, телезритель должен был знать своих героев в лицо!
По дороге манифестанты сметали со своего пути хлипкие милицейские кордоны, оравами врывались в правительственные учреждения, захватывая их, устраивали в них «штабы революции». Взбудоражившись легкими победами, даже попытались Президентский дворец на Банковской захватить. С ходу попытка не получилась, так они для выполнения этой задачи бульдозер к дворцу подогнали, и уже на нем, что на танке, перли на спецназовцев, стоявших в оцеплении. Не то что бы даже на испуг брали, метили вогнать в шок техническим разбоем. И давили бульдозерным ковшом. Медленно-медленно.
Ах да! Перед решительным штурмом дворца, вожди Евромайдана залазили на бульдозер, и оттудова, с его высоты гремели речами майданувшейся толпе. «Ленина в Октябре», похоже, болезные, имитировали, воображали, будто с броневика выступают. Старались, чтоб у них попохожее на настоящую революцию было.
С тем «броневичком» еще один знаменательный курьез приключился. На бульдозер, в вожди революционные, полез и нынешний Президент Украины, Петя Порошенко. Тоже желал в первых лицах Евромайдана вовремя оказаться, чтоб мимо рта не проскочило. Но с первого раза «шоколадному» Пете не повезло. Зря пыхтел, карабкался. Согнали его «протэстувальныки» с бульдозера, чуть ли не взашей, обматерив и обулюлюкав. А он – ничего, спокойно с бульдозера сполз и отошел в сторонку постоять. Уверенно и незатейливо. Как будто наперед, шельмец, видел, что в будущем пост главы государства ему обеспечен гарантировано. Чего нервную систему понапрасну изводить? Попозже, так попозже.
После того, как Евромайдан прочувствовал свою силу и всему белому свету ее показал во всей красе и мощи, обозначиться в рядах революционеров, сделалось модным и весьма престижным занятием. Вдобавок, телевидение и интернет национальный подъем воодушевляли неплохо. Народищу в подмогу протэстувальныкам навалило тьма-тьмущая. В основном западенцы-бандеровцы. Из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Ровно. Оттуда ехали битком набитыми поездами. Их на Киев как на фронт выходили провожать – под музыку оркестра, городами и селами. И все «банду гэть» орут.
Ну и, конечно, американцы моментом выгодным не упустили шанс воспользоваться. Деньгами ссорили, не жадничали. Платили сидельцам палаточного городка, участникам антиправительственных демонстраций, кормежку дармовую для них наладили. Тут вообще ошалели от восторга протестувальники. Бей баклуши, бездельничай, хулигань, безобразничай, ори матещину во все горло – тебя никто накажет, а, наоборот, тебе еще за это непотребство денег через ведомость начислят! Энтузиазма прибавилось значительно. На Майдан звезды медийные в массовом порядке повадились на выступления. И певцы, и артисты, и телеведущие. Со сцены раззадоривали толпу подстрекательскими речами. Профессионально. Как в школе актерского мастерства учили. Черт с ними, когда это сумасбродная девица Руслана, да под стать ей, хипповатый Вакарчук, или Машка Ефросинина, но Александр Пономарев – это уже никуда негоже, положительный во всех отношениях певец, семьянин, и туда же, поддался за печеньками американскими. Руслана так та прилюдно поклялась, что сожжет себя, тут же, на Майдане, на глазах у всех, если революция не победит. Толпе понравилось, ревели, что тысячеголовое стадо буйволов. «Слава Украини»! Она им еще впридачу и песенок своих попела. Старалась, приплясывала, ведьма. Может, для того на Майдан и прискакавшая, чтобы свой рейтинг музыкальный повыше задрать. Совсем же безголосая певичка! Кто их таких только проталкивает в звезды?
А Евромайдан каждый день по телевизору показывали, как какое-то шоу фантастически космического масштаба. И для граждан страны давалось понятие, что его участником может стать каждый желающий. Действовало одурманивающе и заманчиво.
От безнаказанности за творимые ею безобразия толпа заходилась в диком кураже. Революция гидности во всей красе! «Банду гэть»! Всех гэть!
Алексеевну, однажды, при просмотре трансляции с Киевского Майдана, посетила мысль, что буйные настроения толпы и страсти, распалившиеся в ней, призваны к воплощению отнюдь не человеческими, а заведомо потусторонними силами. Вырвавшимися откуда-то из под земли, прям, из преисподней, роями визжащих от восторга бесов – и закружилось все, завертелось. На людей, словно морок напустился, и они, смотря в упор – не видят, слушая – человеческого не слышат, и эта жуткая силища взяла над Майданом полную волю – навалившись на него массовым психозом, обесовлеванием. А бесы радовались, кружились вокруг несметными роями, завьюживали в преступных злонамерениях. И чем внимательнее Алексеевна наблюдала за происходящими в Киеве событиями, тем тверже убеждалась в своих догадках.
Майдан пел, орал, бузил, не признавал над собою никакой власти. Мало того, он ее напоказ презирал. И в этом понимании ситуации его открыто приветствовало все мировое сообщество, за вычетом России. Кремль, не убоявшись угроз заправил империалистической политики, всячески поддерживал и опекал законное правительство Украины, не оставлял на произвол судьбы ее Президента, Виктора Януковича. По российским центральным каналам, впервые за много лет, заговорили о проблемах Русского мира и русского народа. Что показало всем империалистическим злыдням, что Россия наконец-то встала с колен.
Бесы завьюживали, и завьюживали. Градус напряжения в столице Украины неуклонно возрастал.
В январе-месяце, отряды самообороны Майдана понастроили баррикад, перегородив ими центральные улицы Киева, горели автомобильные покрышки – черный дым до небес. После недолгой передышки, возобновились стычки протэстувальныкив и милиции. В милиционеров полетели камни, те в отместку стали забрасывать баррикады свето-шумовыми гранатами. Из пистолетов травматических и ружей в друг дружку начали палить. Смертоубийство массовое назревало явно. Кружащиеся над Киевским Майданом бесы большой крови жаждали. Распылялись в воздухе флюиды лютости, злобы, непримиримости. Закипало, наваривалось, готовилось дьявольское варево. А окружающие люди дышали этими парами. Надышались. На Западной Украине принялись захватывать административные здания, воинские склады с оружием.
Чудовищная силища перла на страну, всесокрушающая. Когда Алексеевна смогла разоблачить ее инфернальную природу, ей сделалось страшно до жути кромешной, она поняла, остановить эту силищу было практически невозможно. Ибо только Божие чудо могло спасти народ в образовавшейся ситуации. А вымолить его было, считай, некому, неизмеримо обеднела земля русская совестью, правдой, любовью жертвенной, молитвенниками, многократнее перевешивают преступления и похоти лукавые, особенно мамонолюбие да зависть злобная, поедом изгрызающие людские сердца изнутри. Вспомнила она и предсмертные пророчества Ионы Одесского о том, что после его кончины в одной стране, которая меньше России, возникнут большие нестроения. «Первая Пасха будет кровавой, вторая голодной, третья – победной». Алексеевна поняла, что готовиться надо к худшему, что война вырисовывается неизбежным фактом уже в ближайшей перспективе. Кому Алексеевна об этом не говорила, никто ей не хотел верить. А кое-кто откровенно смотрел на нее, как на душевнобольную, и крутил пальцем у виска, мол, какая война, в двадцать первом веке живем, да еще в центре Европы, считай. Мол, мировое сообщество никогда такого безумия не допустит. А с одной из старинных своих приятельниц они вообще разругались вдрызг. Та стала кричать Алексеевне в лицо, что она кликуша «православнутая», и желает горя и истребления всему нашему народу, говоря о неизбежности войны на Украине. По ее фэн-шую выходило, что Алексеевна и виновата еще во всем. Вот так-то.
В феврале противостояние достигло высшей точки кипения, и взорвалось множеством смертей. На Киевских улицах полилась человеческая кровь. Как убитых евромайдановцев, так и милиционеров и солдатиков срочной службы. Еще вчера они являлись гражданами одной страны, а теперь со злобой лютою принялись убивать друг друга. Бесы радовались и ликовали. Их радостный визг явственно слышался в свисте февральского ветра, прорывался в голосах дикторш на телевидении. С Киева сплошным потоком шли репортажи об избиениях, убийствах, звучали клятвы отомстить. И не раздалось ни единого призыва остановить разворачивающееся в полный масштаб братоубийство! Рассудок и понимание сути происходящего отключались, возобладали страсти, охватившие население целой страны.
Вскоре Виктор Янукович сбежал с Украины. Она даже дату запомнила. Двадцать первое февраля. Черный день календаря. В тот день ей стало окончательно ясно: надежд на возврат к прежней домайдановской жизни не осталось. К власти пришла хунта. Исполняющим обязанности Президента Украины, поставили Турчинова. Как издевательство над нашим народом – баптистского пастора. Вокруг него сгрудилась нацистская шобла. По украинскому телевидению их морды круглосуточно показывали. И Тягнибока, и Фарион, и Ляшка. Даже еврей Яценюк почему-то сделался ярым украинским националистом. Все показываемые вопили с трибун бандеровский клич времен Великой Отечественной войны: «Слава Украини! Гэроям слава»! Это сделалось обязательным ритуалом. И, наверное, пропуском в высшие эшелоны власти.
Янукович, конечно, вор. Ворище! Но остальные, из легиона власть предержащих в Украинском государстве, разве чем лучше его? Те же, например, кого потом революция гидности (чи гадкости?) посадила в новые правители страны, вместо Януковича? Кого ни возьми. Что Порошенко, что Яценюк, что Турчинов? Они и при Януковиче у государственной казны сидели, и тоже подобно ему, не брезговали в нее свою лапу запускать. Точь в точь такие же ворюги! А что подружку свою Юльку не пустили во власть, больно уж вызывающе сделалось бы. Сильно знаменитой на страну воровкой является. Отодвинули арестантку в сторону, чтобы народ не смущать. А попозже, глядишь, и ей именитое местечко в правительстве найдется. Попритихнут люстранты* дотошные, и в самый аккурат станет.
По телевизору целыми днями показывали заседания Верховной Рады, обновленной, революционной. Агрессия с экрана телевизора так и перла. Постоянно звучали речи о запрете русского языка – «одна нация, одна мова». Периодически раздавались кличи о крестовом походе на русскоязычные Крым и Юго-Восток Украины.
Население страны колошматило в дурных предчувствиях. Люди не отходили от экранов телевизоров. Каждый новый день дарил известия одно радостнее другого.
Невозможное происходило, уму непостижимое. Жутчайшая силища надо всем – факт. Все законы и прежние устои ломит, корежит, расшвыривает. Ощущение складывалось, что, все, чем жили, все порядки, абсолютно все летит в тартарары. И никто из нового украинского правительства даже не пробовал это остановить. Хотя чего с них возьмешь, хунта она и есть хунта. В квартирах простых людей Украины поселился страх. Они поняли, что оказались совершенно беззащитны перед этой страшной стихией, захлестнувшей их мирную до сегодняшнего дня страну.
Конечно, такое не могло долго длиться: страх должен был найти выход.
Глядя на творящееся в Киеве, закипал и русскоязычный Восток Украины. Чего-то здравомыслящего со стороны нового столичного руководства ожидать не приходилось. То и дело оттуда доносились отголоски криков: «Москаляку на гыляку»!* Что самих «москаляк» Юго-Востока восхищать, естественно, никак не могло. В Луганске, в народе стали ходить упорные слухи о скором приезде в город нацистских молодчиков для наведения у нас бандеровского порядка. «Отцы» города разрешили создавать отряды самообороны из жителей Луганска. В парке перед областной администрацией установили большую брезентовую палатку, где записывались добровольцы. По улицам города стали ходить казачьи патрули. В воздухе повисла предгрозовая тревога, явственно запахло войной.
Всю зиму четырнадцатого года напряжение нарастало день ото дня неостановимо, как будто, кто нарочно, без устали, подбрасывал в топку бронепоезда войны уголька. И в телевизоре, и в интернете. Раскочегаривали, не давали пожару ненависти потухнуть. Это чувство не покидало ее в те дни.
Алексеевна отложила скалку. Вытерла кистью вспотевший лоб. Заново насыпала на стол муки. Помесив, потолкав тесто, оторвала следующий кус. Хлопнула им в центр стола, и стала его раскатывать скалкой.
«В марте-месяце Крым забрала себе Россия. Его население почти единогласно проголосовало на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации. Вместе с Крымом ликовал весь Юго-Восток Украины. У людей тогда появилась надежда, что удастся избежать фашистского ужаса, став под защиту могучей России. Тем более, Путин по телевизору предупредил Киевскую хунту, что не позволит безнаказанно убивать мирных жителей Донбасса. Это заявление придало сил и надежды всем людям Луганска, Харькова, Донецка. Все теперь были уверены, только фашисты полезут на Восток Украины, на их защиту выступит Российская армия. Но воинственные настроения в Киеве почему-то не охладились предупреждением Президента России, Украинским СМИ продолжали транслировать речи своих политиков в том же зловещем тоне. На Восток Украины потянулись эшелоны с танками и солдатами Украинской армии.
И вот терпению «москалей» пришел конец. На Юго-Востоке Украины вспыхнули мятежные волнения, выразившиеся в митингах и манифестациях. Манифестации пошли по Харькову, Луганску, Донецку, Запорожью, Одессе, Николаеву. На улицы вышли многие тысячи людей, неожиданно сделавшиеся неполноценными в своей собственной стране. Алексеевна тоже принимала участие в парочке таких манифестаций. Она шла вместе со своими земляками в тесных колоннах и, что есть мочи, кричала справедливые лозунги. Голос Алексеевны вливался в гром голосов тысяч ее земляков. Дело ее города, его горожан – это было и ее личное дело, ее желание, ее воля. Она чувствовала себя гордо, потому что она тоже участвовала, тоже вершила историю. Кто знает, может, и ее голос принес какую-то, хоть мало-мальскую, пользу родному городу. Воля населения Луганска весной 2014 года выражалась в могучем многотысячегласом взывании: «Россия! Путин»!
Но мирного разрешения конфликта в Украине, видать, никто не планировал. На Юго-Востоке чекисты взялись брать под арест активистов Антимайдана. Всех тех, кто особенно ярко засветился в выступлениях против русофобской политики Киевского правительства. Само собой, это спровоцировало ответные действия. В Донецке, в Харькове, в Луганске начались захваты государственных учреждений. Обладминистрации, управления внутренних дел, СБУ и прокуратуры. В принципе, стало повторяться то, что до этого происходило на Западной Украине.
Ночью на шестое апреля луганские ребята, бывшие десантники и афганцы захватили областное управление СБУ с целым оружейным арсеналом в нем. В захваченном здании оказалось несколько тысяч автоматов, пистолеты и ящики с гранатами.
На утро после его захвата об этом знал весь город. В обед улицу перед бывшим эСБэУшным управлением, сделавшимся теперь штабом русского сопротивления, с двух концов перегородили баррикадами. К вечеру на площади стояло несколько тысяч человек, в поддержку местных мужчин, набравшихся смелости и решившихся идти на противостояние фашистам вооруженной рукой. И опять дружным хором кричали: «Россия! Путин»! Алексеевне казалось, что здесь в этот момент собралось все население города. Много было людей, народ запрудил собою всю площадь.
Православные Луганска решили внести свою лепту в благородное дело защиты гражданских и человеческих прав земляками. Был организован Крестный ход вокруг здания СБУ. Когда крестоходцы с молитвой тронулись в путь, Алексеевна даже заплакала от умиления. Столько ожидания на помощь Божию в глазах светилось у встречных людей, подходивших целовать икону, которую несли впереди Крестного хода – с истинной верой, с трепетом перед волей Божией. Мужчины, женщины, дети. Все догадывались, впереди их ждут тяжкие испытания, и надеялись, что Господь не оставит милостью тех, на чьей стороне правда. Алексеевна плакала и радовалась тому, что ее земляки поняли наконец-то, что с Господом нашим, Иисусом Христом, русским людям никто не страшен, никакой вражине нас не одолеть! Алексеевна радовалась этому великому пониманию даже чересчур восторженно, будто Пасха в этом году раньше положенного срока наступила. Ее так и подмывало воскликнуть: «Люди! Христос Воскресе»!
Позже установили часовенку, сбитую из реек и обтянутую пленкой. Денно и ношно там читался неусыпаемый псалтырь. Денно и ношно молились там православные за защитников своего города. Ни на единую минуту не прерывалась молитва. Алексеевна в свой черед добросовестно отстаивала в ней часы. Молилась за всех людей Луганска, искренне, слезно Господа умоляла, чтобы не оставил луганчан без своей опеки, чтобы защитил и сохранил город.
Жизнь на площади постепенно благоустраивалась. Через некоторое время там поставили полевые кухни, где жители, собравшиеся для поддержки своих героев, могли получить пищу и горячий чай, в близлежащем парке разбили палаточный городок. Луганчане доставляли к зданию бывшего СБУ продукты, медикаменты и теплую одежду (ночи до середины апреля стояли холодные, особенно после дождей). Алексеевна, само собой, тоже не осталась в стороне, понесла туда, чем в состоянии была поделиться с людьми. И с домашней аптечки, и с погреба. На площади постоянно находились тысячи людей. Ничего не сделалось лишним. Митинги длились, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Люди в очередь выговаривали обиды на украинскую власть, политиканов и чиновничество, накопившиеся за двадцать три года «нэзалэжности», облегчено освобождаясь от груза, угнетающе давящего на их сердца.
Следом за Луганском поднялся на вооруженное восстание Донецк. В Харькове что-то не получилось, по телевизору прошла информация, что антибандеровское сопротивление там задушили на корню. В придачу, вожди Харьковские, Кернес с Добкиным народ предали, сволочи иудаистические! К восставшим дончанам с Луганска отправили несколько машин с добровольцами, повезшим туда запасы оружия. Все равно стоять против фашистов вместе надо было.
Переговоры с Украинской властью не приносили положительного результата. С Киева слышались исключительно одни лишь угрозы и обещания скорой расправы с мятежным Донбассом. Руководство Луганского и Донецкого сопротивления решило провести в обеих областях Референдум о федерализации Украины, с тем, чтобы добиться для жителей своих регионов более гарантированной защиты их прав и интересов. На митингах с трибун, а так же в разговорах в толпе жителей города убеждали, что предстоящий Референдум это необходимая предпосылка для осуществления Крымского сценария, и что после его проведения, жители Донбасса сами не заметят, как очутятся в составе Российской Федерации. Эти обещания воодушевляли. А сожжение живьем 2 мая в Одесском Доме Профсоюзов украинскими фашистами несколько десятков человек еще более укрепил луганчан в своем решении.
Алексеевна, одиннадцатого мая, с раннего утра направившаяся на избирательный участок, никогда не видела такого народного подъема, ни на одних выборах. Люди шли, и шли. Улыбающиеся, счастливые. Шли и верили, что их страхам приходит конец, и впереди их ожидает мирная жизнь под надежной защитой Российской Федерации.
Референдум благополучно состоялся, и люди проголосовали как надо, но повторения судьбы Крыма так и не произошло, людям посоветовали терпеть и надеяться. Потом начался штурм Луганской и Донецкой областей, обвиненных Киевской хунтой в сепаратизме, армией Украинских карателей. А кто же они еще как не каратели? Стрелять по городам с мирными жителями в нем из пушек и танков? К Луганску отряды карателей подошли вплотную. Бои шли на Металлисте, в Вергунке, в городе действовали диверсионные группы. На улицах нередко после минометных обстрелов оставались лежать трупы людей. Луганчане привыкали к виду смерти, как обычному явлению.
Алексеевна однажды сама попала в серьезную передрягу, отправившись посмотреть квартиру Галины на Восточных кварталах. Едва вылезла с маршрутки на квартале Волкова, как начался обстрел. Сразу – паника, люди вокруг засуетились, заметались, побежали кто куда, ища себе укрытие понадежнее, или просто падали на асфальт, на том месте, где находились, закрывая руками голову. Алексеевна залегла под, первый попавшийся ей на глаза, железный ларек, и в страхе попыталась вжаться в асфальт, словно его можно было продавить в виде окопчика. Каждый взрыв ударял в землю так, что она сотрясалась и дрожала под плотно прижатыми к ней грудью и животом Алексеевны. Слышался звон разбиваемого стекла. Непроизвольно у пожилой женщины сложилась мысленная картина, словно взрывалось все пространство вокруг. Хотя Алексеевна догадывалась, что далеко не настолько безнадежным образом обстоит дело, а рисует эти ужасы ее воспалившееся страхом воображение. Но и ожидание того, что следующий снаряд обязательно прилетит по твою душу не оставляло ее ни на секунду. Когда обстрел закончился, а она долго еще не могла напрячь мышцы, чтобы отодрать свое тело от асфальта. Будто вросла в него. Едва-едва заставила себя принять вертикальное положение. Пройдя немного вперед, увидела тело мужчины лет пятидесяти, лежащего на спине. Алексеевна подошла к нему первая. Под телом расплывалась лужа крови. Она приложила пальцы к шее мужчины, чуть выше ключицы. Пульс отсутствовал, мужчина был мертв. Постояв некоторое время в растерянности около трупа, пребывая постобстрельной прострации, Алексеевна все же додумалась позвонить в «Скорую помощь», сообщив об убитом и местонахождении его тела. Она не стала ждать прибытия врачей, а, как в тумане, побрела к Галининому дому. Когда она к нему подошла, его жильцы только начали выходить из подвала. Перестраховывались, сердешные, опасаясь возобновления обстрела. Алексеевна, попав в дочерину квартиру, автоматически прошлась по ней, визуально удостоверяясь в целостности и сохранности имущества, затем заварила себе на кухне кружку крепкого черного чая. Выпила его горячим, без сахара, ни о чем не думая – в ушах по-прежнему стоял звон. Контузии не было, а осталось после пережитого обстрела чувство разорванного мировосприятия, его калейдоскопичность. События, лица, движения, слова, разговоры, запахи, температура – будто это все нарушило между собой привычные связи, и сделались сугубо обособленными явлениями, как бы самими в себе – и мелькало, мелькало, вертелось, кувыркалось, но никак не возвращалось на свое привычное место. В этом же состоянии Алексеевна вернулась к себе домой, в Камброд. Зайдя в дом, разулась и, не переодеваясь, пошла к иконостасу, прочла вечернее правило, почитала акафисты Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу. Молитва привычно успокоила душу и она легла спать. Но весь следующий день она просидела в четырех стенах, не испытывая желания выйти даже во двор. Боялась улицы. Почти весь день молилась. Почитала Акафисты Божией Матери, псалтырь, прочла полностью Евангелие от Матфея. Только к вечеру она окончательно почувствовала себя в своей воле, восстановив свои духовные и телесные возможности.
Война – беда! Большая беда! Но Господь никогда не пошлет испытаний сверх сил испытываемого. А значит, и на войне, среди горя и беды, надо жить, оставаясь человеком, сохраняя свою душу, сохраняя себя в числе народа Божиего. Господь укрепит!»
Алексеевна, сноровистыми руками, подготовила коржи для пирога. В более толстый, присмотренный быть нижним, стала втыкать яблочные дольки. Справившись, она положила сверху на начинку второй корж. Сдавила, прошлась щипками по краям. Зажгла огонь в духовке и засунула в нее пирог. Вымыв под краном руки от налипшего на кожу теста, присела за стол и стала резать яблоки для компота.
Вдруг на улице раздался грохот взрыва. Алексеевна, замерла, насторожилась. Похоже, на пушечный выстрел, из миномета когда – слабже бьет. Такое впечатление, что где-то рядом, хотя Алексеевна по накопившемуся опыту жизни на войне уже знала, что взрыв этот раздался, как минимум, через несколько улиц отсюда.
В кухню забежала перепуганная Анечка, и, добежав до бабушки, принялась требовательно дергать ее за материю халата.
– Бабишка, биста! Биста! Стрелят! Стрелят!
Алексеевна торопливо встала со стула, и бросилась к газовой плите.
– Слышу, моя маленькая, что стреляют, слышу.
– Бабишка, биста, биста! – подгоняла ее трехлетняя девочка.
Алексеевна и сама знала, что делать все требуется как можно быстрее. А присутствие рядом с ней этой маленькой говорилки, только добавляло ее движениям быстроты. Потушив газ, она вынула из духовки, совсем недавно засунутый туда пирог, тяжело вздохнув, поставила противень на плиту, схватила на руки Анечку и выбежала с ней из дому. Где-то в стороне парка имени Горького прогремел еще один взрыв. Где-то там. А может быть, и ближе.
Спустившись по ступеням на самое дно погреба, Алексеевна присела и поставила на пол внучку, выпрямившись, нащупала на полке, прибитой справа от входа в основную комнату, керосиновую лампу. Сняла с нее стеклянный колпак, зажгла фитиль, и, освещая лампою путь, пошла вглубь погреба, держа Анечку за руку.
Не мешало бы уточнить, что еще перед началом активных боевых действий, Алексеевна с помощью своего зятя Сергея (перед самым их выездом в Россию) переоборудовала погреб в импровизированное бомбоубежище.
Разобрали стеллажи, предназначенные для хранения банок с вареньем и другими консервантами, вместо них соорудили двухъярусные нары. Алексеевна застелила их матрасами, принесла из дому подушки и постельное белье. (Белье на нарах покамест не застилала, оно лежало приготовленным в пакетах на случай длительных обстрелов, если в погребе придется находиться достаточно долгое время). Банки с прошлогодним вареньем засунули под дно, поднятого над землей на железные ножки, длинного алюминиевого короба, используемого семьей Мякишевых для хранения картошки.
В углу стояла сорокалитровая пластмассовая бочка с пресной водой. Около нее разместили небольшой журнальный столик, на котором выложили горкой минимальный набор столовой посуды. На краю столика – связка толстых восковых свечей. К стене прислонились две штыковые лопаты, откапываться, если вдруг при прямом попадании снаряда в погреб, их засыплет землей. Мало ли? Береженного – Бог бережет.
Тесновато, конечно, выходило от этих переустройств в погребе. Но хозяйке было надобно использовать его пространство как можно целесообразнее, чтобы предусмотреть различные неурядицы.
Поставив лампу на середину журнального столика, и усадив внучку на лежанку, она достала из аптечки настойку валерианы, выждала, при скудном освещении, несколько капель в столовую ложку и влила их себе в рот.
А девочка, только лишь попала в погреб, сразу заметно успокоилась. Она хорошо запомнила мамины и бабушкины уверения о том, что здесь они находятся в полной безопасности и им здесь ничего не может грозить. Она играла с куклой. У Анечки тоже здесь хранился свой личный «тревожный» пакет, в нем лежали игрушки, выделенные ее мамой для подобного случая.
Женщина, потирая ладонью левую сторону груди, присела на лежанку рядом с играющей с куклой внучкой. Обняла ее хрупкое тельце за плечики, и стала тревожно прислушиваться к звукам, доносившимся с улицы.
Анечка разговаривала с куклой:
– Мафа, де мифка идеть? Биста его нам зови. Бух-бух на уице… Кушать буем пиох. Ялоками пиох, слаинький-слаинький. Анечка пекёть. Ольшой-ольшой. Мами пиедет, папи. Деся буим. А на уичке – бух-бух! Бабай дёть.
– Вот, говорилка, ты моя – невольная улыбка тронула губы Алексеевны.
Она наклонилась к белокурой головочке внучки, потянула носом запах ее волос. Пахло невинностью и детством.
– Я не овоилька, я Аня. Ты фто, бабишка? – сделала круглые глаза девочка. И развела недоуменно ручонки.
– Аня, Аня – согласилась с девочкой Алексеевна, и поцеловала ее в макушку.
– Отли! Ню-ню-ню! – погрозила Аня пальчиком «забывчивой» бабушке.
Женщина засмеялась, следом за ней засмеялась и девочка. Им стало так весело, будто не было войны, будто не во мрачной глубине погреба они сидят, при пляшущем огне керосиновой лампы, а в своем дворе, под навесом беседки, на свежем воздухе.
– Ох, строгая ты у меня! – смеялась Алексеевна над потешной строгостью трехлетнего ребенка.
– Ога-ая! – заливалась от смеха Анечка.
– Ох, строгая! – смеялась Алексеевна.
– Ню-ню – погрозила ей, балуясь, девочка.
В шутливый диалог бабушки с внучкой ворвался грохот взрыва. Хотя сидели они не особо расслабляясь, можно сказать, начеку, но этот взрыв вышел чересчур неожиданным, мгновенно вырвавшим их из мира и безжалостно бросивший обратно в войну. Больно уж сильно ударило в землю.
– Баббишка-аа! – испугано прижалась к ней внучка, и тут же заплакала.
«Неужели в дом попали»? – запереживала Алексеевна: – «Близко как будто взорвалось. На старости лет бомжихой что ли осталась, без дома без своего? А может это где-то в стороне, где-то туда дальше по улице?»
Анечка зарылась лицом бабушке в живот. Тельце девочки вздрагивало от плача. Ручками она прикрыла уши. На пальчики спали пряди волос.
– Испугалась, маленькая? Испугалась? – приговаривала Алексеевна, гладя малышку по голове: – Не бойся, Анечка, ничего нам не сделается. Мы для бомб глубоко сидим, не достанут они нас здесь. Пересидим благополучно, куда ж мы денемся… Не плачь, Анечка, не надо… Все будет хорошо! Сейчас скоро закончится, пойдем в дом, и бабушка спекет специально для Анечки вкусный пирог. И компотика сварим. Попируем с тобой, жизнь нашу трошечки подсладим. И мама, глядишь, скоро возвернется с путешествия своего. И маму пирогом накормим. Она с дороги проголодается…
– Бабишка, я боюсяа-а! – приподняв заплаканное личико, жалостливо сказала девочка. Продолжая подвсхлипывать и вздрагивать тельцем.
Алексеевна не успела ей ничего ответить, как на улице снова ухнуло. Прозвучало два взрыва подряд. Анечка испуганно вскрикнула, и, словно желая спрятаться от беды, уткнулась лицом в живот бабушке. Женщина успокаивающе поглаживала плачущую внучку по голове, и прислушивалась к происходящему на улице. Эти взрывы были где-то вдалеке. Похоже, что в районе Богдановского моста. Вроде, как в той стороне. «Бедная девочка. Храни тебя Христос!» – подумала Алексеевна, вспомнив молоденькую продавщицу. Хотя, естественно, точно в каком месте прогремели взрывы, отсюда, из подвала, не определить было невозможно.
Послышались автоматные и пулеметные очереди.
Трах-ттаттах… Тах-тах-та-та-тах!!! Та-та-та-тах!!!
Анечка не успокаивалась, плакала, размазывая ладошками слезы по всему личику. Никогда еще до этого дыхание войны не приближалось к ним настолько близко и не страшило неминуемой смертью так нагло. Взрослому человеку сделалось бы не по себе, что говорить о маленьком человечке, с которым рядом сейчас не было ни мамы, ни папы.
Вдруг над головами бабушки и внучки, на поверхности, раздался взрыв такой мощности, что подпрыгнул пол под ногами, затряслись глиняные стены их убежища и посыпалась штукатурка с потолка. Аня заплакала в голос. Под клетью звякнули стукнувшиеся друг о дружку банки.
Тут уж терпению Алексеевны пришел конец. Она вскочила на ноги, и яростно потрясая в воздухе сжатыми кулаками, стала кричать, выгнув голову кверху. Кричала – на шее набухли вены, синюшно посливовели губы, надрывно, громко, словно она в силах была докричаться:
– Будьте вы прокляты, упыри смердющие! Все мало вам крови людской, все мало вам наших страданий, все мало вам денег сиротских! Да чтоб вы наконец подавились награбленным! Чтоб оно поперек горла у вас встало! Чтоб расплавленным свинцом ваши руки загребущие сжигало. Чтоб ваши дети и внуки ни спокойствия, ни счастья не знали! Ни в этой жизни, ни в следующей. Будьте прокляты все твари, кто придумывал и устраивал эту войну! Чтобы ни одна тварь не ушла от ответа!
Выкричавшись, женщина еще долго стояла с сжатыми кулаками над головой. Окаменевшая, опустошенная, словно из нее в один момент вся ее жизненная сила вышла.
Опуская руки, глядя на испугано притихшую внучку, Алексеевна едва слышно прошептала:
– Пусть Господь услышит мои слова, не побоюсь о них свидетельствовать и на Страшном суде! Аминь!
Дмитрий Юдкин
 Юдкин Д.Н.
Юдкин Д.Н.
 Заказать книгу
Заказать книгу Написать письмо
Написать письмо Связаться со мной на Facebook
Связаться со мной на Facebook Связаться со мной на Одноклассники
Связаться со мной на Одноклассники Страница на Проза.ру
Страница на Проза.ру Страница Google+
Страница Google+