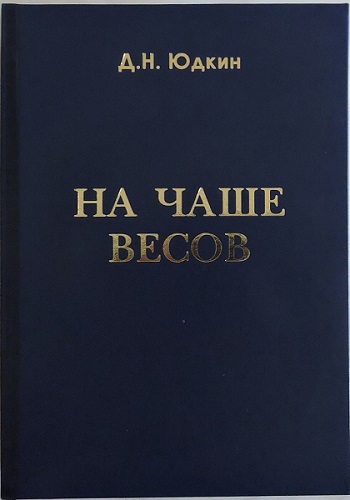ЗА ВСЁ – СЛАВА БОГУ!
Текст Юлия Маковейчук
Фотограф Иван Жук 20 лет работает на просфорне Данилова монастыря. Его снимки не вписываются ни в одно направление современной фотографии. Поиск новых средств выражения духовной реальности в фотографии не прекращается. Случается, что новая работа становится открытием не только для зрителей, но и для самого автора.
– Иван Иванович, как Вы, юноша советского воспитания, пришли к религиозным поискам?
– Родился я в украинском городе Сумы, в 1956 году. Там же окончил школу и пять курсов политехнического института. С преддипломной практики ушёл, потому что хобби, которому посвящал практически всё свободное время – любительское кино и театр, – в конце концов перевесило. Полгода проработал сторожем наспортивной базе – и поступил в теа-тральный институт имени Карпенко-Карого, в Киеве, на режиссуру кино и телевидения. Правда, и там задержался недолго.
В те времена в среде украинских интеллигентов бытовала такая горькая шутка: за что в Москве дадут 15 суток, за то в Украине посадят на 5 лет. С первого дня учёбы нас готовили к тому, что мы в первую очередь бойцы идеологического фронта и уже потом – художники. А это значит – нам придётся всю жизнь лгать, и только когда-нибудь, возможно, под занавес жизни, мы сможем излить с экрана всю горечь своей души, рассказать всю правду-матку. Или вообще никогда её не рассказать.
Когда такие «радужные перспективы» рисовал перед нами с кафедры уважаемый человек, поневоле закрадывалась мысль: неужели это и есть предел моих мечтаний? Одним словом, бросил я киевский театральный и ушёл набираться житейского опыта к другу-художнику, в кишащую крысами мастерскую на Большой Житомирской. Здесь больше чем полгода, практически на одних макаронах да чае, готовился поступать во ВГИК. Поступив во ВГИК, на кафедру сценарного мастерства к Николаю Николаевичу Фигуровскому, я достаточно браво начал: уже на первом курсе по моим короткометражкам режиссёры-выпускники сняли два преддиплома и один диплом. Но тут случился идеологический конфуз, мне пришлось выйти по собственному желанию из комсомола, что, естественно, вызвало большой переполох «в верхах». На одном из комсомольских собраний ответственный товарищ из ЦК ВЛКСМ даже всерьёз предлагал проверить меня в психушке. Правда, мои сокурсники его, слава Богу, не поддержали. Тогда меня с треском вышибли из кинематографической альма-матер, а мой мастер, Николай Фигуровский, сказал: «Ты, Ваня, конечно, сумасшедший. Но если будешь нужен жизни, ты выживешь».
С таким напутствием я и оказался сначала в Сумах, на заводе, а потом в московском ЖЭКе, где дважды пытался заработать себе прописку, работая то слесарем-сантехником, то
дворником по лимиту. Через два года, когда подошёл срок получать московскую прописку, в паспортном столе «вдруг» выяснилось, что с высшим образованием (даже начальным) брать меня на работу по лимиту не имели права, – и я снова приземлился на истоках, в Сумах. Там я женился, родил ребёнка и вовсе не собирался ещё раз въезжать в Москву: писал рассказы и киносценарии, клеил коллажи, фотографировал. Но тут встал вопрос о крещении моего сына, Фёдора, – и тогда я вспомнил о самом «православном» из моих знакомых, и всё завертелось вновь. Дело в том, что когда я поступил во ВГИК, в одном из старинных московских особняков, в родовом гнезде сестёр Рылеевых по улице Медведева, – туда, задумав писать роман о декабристах, захаживал ещё сам Лев Толстой, – я познакомился с моим будущим начальником по просфорне, Александром. Он работал в то время дворником и вместе с беременной первым сыном молодой женой Екатериной обретался в одной из комнат этой необъятной двухэтажной коммуналки. Там мы и подружились: вместе перепечатывали на машинке, а потом и распространяли среди таких же, как мы, молодых неофитов не издававшуюся в те годы духовно-нравственную литературу. Так что, когда встал вопрос о крёстном отце для моего сына, я, ни секунды не раздумывая, пригласил в Сумы именно Александра. К тому времени отец уже восьмерых детей, Александр по телефону спросил у меня:
не нужно ли чего подвезти в подарок. Я ответил, что у нас всё есть. Но когда Александр подъехал с женою в Сумы и увидел это моё «всё есть», то тут же и предложил мне «на месячишко-другой» вернуться в Москву, чтобы подзаработать сыну на пелёнки. С тех пор, вот уже 20 лет, я и работаю в Свято-Даниловом монастыре, просфорником.
– А связь с кинематографом, значит, оборвалась?
– Фактически да. Хотя параллель- но с работой на просфорне и с занятием фотографией я и продолжаю писать киноповести, которые – начиная с 2000 года – уже четырежды отмечались дипломами российских и даже одного международного киноконкурса. Но, к сожалению, они так ни разу и не были сняты. Однажды, в 2000 году, меня чествовали в Кремлев. Причём диплом о победе на православном кинофоруме «Золотой Витязь» вручал мне не кто иной, как бывший парторг кафедры кинодраматургии, профессор ВГИКа Леонид Николаевич Нехорошев. По иронии судьбы человек, в своё время отчисливший меня за «идеологическую диверсию» из института, через пятнадцать лет определял уже мою православную «профпригодность». Естественно, в новом формате времени, перед церемонией награждения он торжественно извинился за свои прошлые прегрешения, и я ему, так же вполне естественно и искренне, всё простил. Но, согласитесь, сама история достаточно любопытна.

Тихий вечер
– С чего начиналась Ваша фотография?
– Лет в 15 я захотел фотографировать, и мама купила мне аппарат
«Зенит». Так я и начал снимать всё
то, что мне тогда казалось красивым: дождинку на лепестке цветка,
луч света на паутинке. Одним словом, открывал фотомир и радовался.
Со временем у меня накопилось достаточно много неплохих реалистических фотографий, пара десятков
коробок со слайдами. Но когда мы с
Игорем Тыртовым – бессменным товарищем по обработке моих снимков
в «Фотошопе» – попробовали всё это
«творческое наследие» привести к
выставочному состоянию, внезапно
выяснилось, что мой «Зенит» давал
большую нерезкость, и ничего путного из этого вороха юношеских «фотошедевров» отобрать было практически невозможно.
Сознательно православной фотографией начал заниматься уже в монастыре. Вначале было просто интересно монахов поснимать. Потом обратил внимание и на рабочих; они здесь тоже достаточно колоритные, впрочем, как и все люди, сознательно выбравшие работу Богу. Так, постепенно, у нас с Игорем Тыртовым – тогда ещё моим коллегой по просфорной – вызрела задумка показать людей православной веры. Мы решили сделать выставку и стали раздумывать об идее, объединяющей наши снимки.
Тогда много спорили, есть у России будущее или нет, – ведь многие слишком уж либеральные деятели «культуры» вообще отрицали нашу цивилизационную самобытность. Вот мы и решили показать, что русский человек – не миф, но самая что ни на есть очевиднейшая реальность, правда, говоря словами Фёдора Михайловича Достоевского, эта реальность не раз и навсегда данная, но хрупкая, духовная. Пока русский человек верит в Бога и исповедует Православие, он, безусловно, есть; но стоит ему потерять себя в каком-нибудь чужебесии, он тотчас же исчезает. Так в эпоху победившего атеизма обитателя СССР переименовали в советского человека, а теперь, при засилье рыночной демократии, когда пытаются замутить истоки и переориентировать нас, русских, на служение золотому тельцу, – всё чаще и всё упорнее именуют россиянами. (Должно быть, от слова «рас- сеяние», куда, если верить Библии, неизбежно ввергает себя народ, который однажды взваливает себе на плечи почти неподъёмное иго Христова крестоношения, но потом, под тем или иным предлогом, отвергается от Него).

Детство
Первая выставка наших с Игорем фотографий прошла в городе Железнодорожном в 2006 году. На открытии – а оно состоялось на Пасху – выступал племянник художника Александра Филонова, сам в прошлом живописец, американский монах отец Герман (Подмошенский). Сотаинник самого Серафима (Роуза), первого американского монаха-подвижника, он долгие годы был главным редактором журнала «Русский паломник», помогал в своё время нашему православному журналу «Фома» становиться на ноги. Вот отец Герман и говорит, обращаясь к прессе, присутствовавшей на открытии выставки: «Этого фотографа надо печатать».
Но представители прессы никак не отреагировали на его слова: сидят себе в глубине кафешки и улыбаются. Тогда отец Герман машет рукой и продолжает: «В конце концов, это не важно, напечатаете вы его или нет. Всё равно эти фотографии будут выставляться и в Доме кино, и в Манеже, и в Кремле. А потом выставки пойдут по всей России и за границей».
Представители прессы продолжают улыбаться. Да оно и понятно: выставка проходила в городе Железнодорожном, на территории строительной базы, в затрапезной рабочей столовой. Выступал дряхлый старик, вещал о блестящей судьбе фотографа, о котором никто ничего не знает (и никогда, наверное, не узнает).
Однако случилось невероятное: прошло всего полгода с того памятного пасхального выступления, как мне предложили сделать выставку в Доме кино, потом в Манеже и, наконец, в Администрации Президента.
Уже случились три выставки в Италии. Прошли выставка в Голландии, в «Русском доме» в Берлине. На февраль 2014 года намечено открытие моей персональной фотовыставки в представительстве Россотрудничества в Лондоне. Будто сами собой, по переписке через Интернет, организуются выставки в Екатеринбурге, в Поморье, во Владивостоке.
Вот и поди смекни: где ты проиграл, а где выиграл? По идее, мы с Игорем Тыртовым – типичные неудачники. Я тридцать три года бьюсь головой о стену кинематографа и никак не могу её пробить. Игорь – простой постсоветский пенсионер: ни денег, ни связей, никаких выдающихся талантов. А Божье дело идёт и идёт, как бы помимо нас, само собой. Вот уж поистине: человек лишь предполагает, а Бог – располагает. И от этого никуда не денешься.
– Фотосъёмка с идеей – дело серьёзное. К ней наверняка нужно заранее готовиться?
– Как можно подготовиться, когда, к примеру, снимаешь старца? Старец Илий позволил мне на бегу, в узеньком тёмном коридорчике, дважды щёлкнуть затвором фотоаппарата, и убежал.
А со схиархимандритом Иоанникием, прозорливым старцем из Ивановской области, вообще удивительная фотосессия получилась. Я приехал к нему вместе с паломнической экскурсией, наш гид представил меня схиархимандриту. Старец спрашивает: «Зачем ты хочешь меня сфотографировать?» А я стою и не знаю, что ему ответить. Тогда старец вдруг приосанился и говорит: «Ладно, фотографируй». Я попытался тут же его заснять, но фотоаппарат, как на грех, заело: не щёлкает, и всё тут. Старец мне улыбается: «На морозе замёрз, бывает. Иди в дом, грейся. Сейчас приду».

Ковчег спасения
Захожу в помещение, а там все стены вагонкой обшиты. Думаю: «Вот дела, решат, что я старца в бане снимаю. Ну ничего – тут я его, конечно, сфотографирую, а потом мы с Игорем впишем его в зимний пейзаж или в храмовый интерьер». Но каково же было моё смущение, когда через минуту-другую входит в дом сам отец Иоанникий, смотрит на меня, улыбается и с лукавинкой говорит: «Ладно, здесь сниматься не будем. Пойдём в храм. Там фон поинтересней».
Вот и попробуй с таким портретируемым приготовиться, когда он мысли твои читает! Единственная задача, которую я тогда сам перед собой поставил, – это как бы чего-нибудь лишнего не подумать. Поэтому при фотографировании в храме я в основном Иисусову молитву про себя читал да старался как можно меньше «думать».
А вот Борис, который меня к отцу Иоанникию на автобусе привёз, на какое-то время подзабыл, должно быть, с кем имеет дело. Идём мы, значит, с ним впереди старца к храму, на фотосессию, а он мне на ухо и нашёптывает: «Ага, хочет, чтобы я ему календариков наделал. А какие тут календарики, когда он один раз сейчас встанет, сфотографируется, и всё. Вот если бы он по-разному попереодевался, тогда можно было бы действительно набор на каждый месяц календариков наделать».
Заходим в храм. Отец Иоанникий подходит к иконам, молится и, взглянув на меня, говорит вдруг: «Можно». Да так это он сурово и строго мне говорит, что я всем нутром в тот миг почувствовал, что в этом его «можно» есть что-то большее, чем просто старческое разрешение на фотографирование. Ему словно бы кто-то свыше позволил у меня сняться, а он мне это самое «можно» серьёзно и строго так передал.
Я всё понял и начал фотографировать. А отец Иоанникий начал... переоблачаться. И так вот всё переоблачался и переоблачался, ровно столько раз, сколько нужно было, чтобы получилось двенадцать совершенно не похожих друг на друга снимков на календарики. Вот такая она, подготовка к фотографированию.
Кроме фотопортрета, как вы, наверное, уже поняли, я пробую заниматься философской фотографией.
– А что это такое?
– Однажды из окошка кельи блаженной Макарии в селе Тёмкино, Смоленской области, увидел я деревянный храм, построенный по собственному «проекту» блаженной. Храм этот явно напоминал корабль. Вот я и подумал: а почему бы и впрямь не поместить этот храм на море?
Вмонтировали его в соответствующий морской пейзаж, с грозовым небом до самого горизонта. Позади храма молнию впечатали, а спереди – летящего белого голубя. Получился «Ковчег спасения». То есть это и плывущая в море церковь, реальный деревянный храм с дровнями под навесом, но одновременно и символ Церкви. Коллаж, который смотрится как вполне внезапно снятая фотография, как только вчера или позавчера подмеченное явление.
Ещё одна фотография – современная иллюстрация к евангельскому воззванию: «Не бойся, малое стадо». Глубокая осень, бездорожье. По разбитой колее, наперекор ветру и липкому снегу, движется крестный ход. Он состоит всего из четырёх фигур. Возглавляет ход пожилая серьёзная монахиня с иконой Николая Мирликийского перед грудью. За ней, опершись на костыль, следует бородатый мужчина в кепке – должно быть, бывший рабочий, потерявший завод, работу, однако в силу своей христианской веры всё-таки не отчаявшийся. А за рабочим, боком клонясь к нему, тянется бомжеватый интеллигент со стопкой книжек. Завершает шествие крепкий мужчина с хоругвью – по-видимому, шофёр, с трудом устоявший в условиях рыночного бедлама.

Странник
Над ними же, в иссиня-чёрном, низко нависшем небе, в том же самом направлении, куда движется земное «малое стадо» сохраняющих верность Христу Спасителю, шествует и небесное воинство святых.
Таким вот нехитрым образом мы и пытаемся помогать нынешним православным поверить в свои слабенькие неофитские силёнки.
– Иван Иванович, есть ли у Вас какие-то свои внутренние, личностные принципы фотографа?
– Я стараюсь фотографировать людей, которых люблю. Не могу фотографировать на заказ. Если кто-то придёт и скажет: сфотографируй-ка, мил человек, вот этого епископа или вот ту «новую русскую» – я, естественно, этого делать не стану. И вовсе не потому, что такой уж принципиальный. Просто знаю, что ничего путного из этого не получится. Это у профессионалов всё и всегда получается на все сто. А нам, любителям, видно, заказано снимать нелюбимое. Так что я даже этого делать и не пытаюсь.
– Фотографию делают для того, чтобы сохранить какой-то момент, того же самого человека для истории. Получается артефакт. Но в этом мире, как мы знаем, всё не вечное и всё тленное. Действительно ли важно, чтобы эти фотографии долго сохранялись?
– Вы знаете, я думаю, что вопрос с вечностью решается гораздо проще, чем нам кажется. Ведь вечность в каждом конкретном мгновении присутствует. И поэтому сохранение фотографий, насколько они сберегутся, зависит не от нас с вами, а от самой вечности. Если мы прикоснёмся к вечности, она и запечатлится, и это почувствуют сразу все. Важно быть внутренне готовым к встрече с вечностью. А вопрос об актуальности фотографий меня совершенно не волнует.
– Религиозная жизнь каждого человека – это, в принципе, дело интимное, личное. Сейчас много снимают, стараясь отобразить красоту молитвы, красоту богослужения в храме...
– Простите, но я не знаю, как отобразить красоту молитвы. Точно так же мне неведомо, как показать духовность. Думаю, что это совершенно невозможно. Не существует приборов, которые эти тонкие вещи фиксировали бы, а делать какие-то монтажи с проявлением неких сущностей – просто смешно и глупо. Поэтому я снимаю то, что можно снять. Те люди, которых я снимаю, ничего не играют, да я и не пытаюсь их «завести» на съёмку. Кто что нажил за свою жизнь – то фотоаппарат и зафиксирует. Сыграть перед объективом практически невозможно. И в этом огромная сила фотоискусства.
Во время выставок в Италии я понял, как это действенно. Походив по залу, итальянцы находили меня и через переводчицу говорили: «Вы знаете, на ваших снимках есть какой-то покой, у вас сфотографированы люди, которые мудро, спокойно откуда-то смотрят. Такого у нас в Италии уже нет. У нас всё теперь как-то быстро, стремительно. Мы потеряли этот покой. Это было у наших бабушек».
Это большая похвала. Большего мне, как фотографу, в общем-то, и не надо. Иностранцы увидели внутренний покой простого русского православного человека, а это – главное. Они поняли, что мы что-то ещё храним в себе такого, что они уже безвозвратно потеряли. И за эту покинувшую их «малость» они уважают нас – и будут прислушиваться к нашему мнению до тех пор, пока она у нас ещё теплится. С другой стороны, этот покой, это внутреннее достоинство, явно читающееся в глазах православных людей, – большая поддержка для наших сегодняшних, ещё не устоявшихся в православной вере «россиян». Помните, Серафим Саровский как-то сказал: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Так вот, когда есть в человеке достоинство, этот внутренний «дух мирен», страна обязательно устоит, как бы её ни пытались исподволь растлить и уничтожить. Потому что потерянным и соблазнённым пока всё ещё есть к кому и куда вернуться. Их встретят и приютят, внимательно выслушают и окружат любовью – той тихой, спокойной, бесхитростной любовью, которой в нашем растерзанном и погрязшем в греховных утехах мире так катастрофически не хватает.

У порога вечности
– Вы следите за фотографическим миром, за фотографами?
– Раньше больше следил. Сейчас мне иногда подсказывают, на что или на кого надо бы обратить внимание. Так что всю фотографическую палитру я себе приблизительно представляю. И западную, и нашу. Недавно мне позвонил один мой старый знакомый, поэт Владимир Кирвялис из Фастова, и посоветовал посмотреть фото Бориса Михайлова. Он сейчас один из самых известных русских фотографов на Западе. Я заглянул в Интернет и понял, почему он так известен. Искусство Бориса Михайлова востребовано на Западе, потому что Россию такой, как она показана у него, – просто жаждут видеть. Всё это любование постсоветским распадом личности, бесконечное снимание бомжей, причём в самых плотских и бездушных сценках, – безусловный бальзам на раны всем так называемым глобалистам. После таких фотографий легко и сладко сказать: «Вот и докатились русские – видно, и впрямь, пора изымать у них землю, недра и делить богатства между цивилизованными народами».
Думаю, что если бы сам Михайлов отчётливо понимал, в какую грязную игру технологи глобализма его втягивают, то он бы поостерёгся множить свои «правдивые» реалистические шедевры. Тем более что на самом-то Западе это безудержное погружение в бездуховность, в чисто плотское существование и в то, что грядёт за ним, местные фотографы показывают намного глубже и сильнее наших.
Скажем, тот же чешский фотомастер Ян Саудек, творящий сейчас в Америке. Прозорливее и трезвее его выявить саму суть выродившегося в плоть постхристианского человека, по-моему, просто невозможно. У него царство плоти, весь этот западный постмодернистский рай бесконечного шопинга и отдыха от духовности доведён до маразма, до торжествующего «ничто», причём всё это выполнено на высочайшем художественном и эстетическом уровне.
Дальше него по лестнице внутреннего распада личности зашёл только английский фотомастер Джоель-Питер Уиткин. Тут уж плотский человек не просто гниёт и натуральнейшим образом разлагается, но, даже став трупом, продолжает жить кишащими в нём червями.
Только и эта, последняя, «правда жизни» – ещё не предел для «честных» западных фотомастеров. Как любил повторять в своих лекциях отец Герман (Подмошенский): «Весь мир ждёт от России спасительного слова о благом Христовом крестоношении, а мы, словно в насмешку над самими собой, пытаемся встроиться в зад летящему в бездну Западу».
Кстати, те же процессы, что в фотографии, происходят и в кино. Там с каждым годом усугубляется «правдивый» показ распада личности и преобладает плюралистическая, постмодернистская игра в жизнь – вместо самой жизни. Серьёзный анализ судеб, становление личности в современном кинематографе практически сведены к нулю, и вслед за потерей духовнонравственных ориентиров, внутрисердечной опоры в Вечном, исчезает и сам носитель их, человек.
Всё-таки право было средневековье, во всяком случае наше, русское, когда даже в самые страшные минуты бытия народного, в ту же Смуту, например, устремляло взгляд современника не на сгущающуюся внутри и вовне человека тьму, но – в Небо. Как сказал греческий старец Паисий Святогорец: «Человек призван вглядываться в свет. А окружающая свет тьма и без того проявится».

Алтарник, профессор С.В. Казаков.
– Не кажется ли Вам, что, по большому счёту, фотоаппараты и фотографические средства – лишь инструмент для творчества, для достижения той идеи, которую Вы задумали?
– Не задумал, а внутренне осознал. Идёт жизнь, и ты понимаешь, что одно явление выписывается в рассказ. Я беру и пишу рассказ. А другое – тянет на коллаж. Тогда я сажусь и клею коллаж. Поэтому говорить: художник я или кто-то ещё – лично мне очень сложно. Жизнь идёт, и я выбираю лишь инструменты, которые, как мне кажется, могут более точно и адекватно выявить суть свершающихся событий.
– И при этом Вы ещё работаете на просфорне.
– Кстати, просфорня, как бы странно это ни прозвучало, очень сильно мне помогает в творчестве. Она меня отрезвляет, что ли, даёт ту меру физического труда и психологического напряжения, при которых я просто обязан учиться элементарным христианским добродетелям – тому же терпению, например, отзывчивости к боли и снисхождению к слабостям окружающих. А это, в свою очередь, отражается и на работе фотографа, да и на всём остальном, естественно. Просфорня – это та, пусть малая, степень благого Христова крестоношения, которая даёт возможность смотреть на мир глазами не праздного наблюдателя, но заинтересованного в соборном спасении христианина. Поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора, я и делаю вывод, что просфорня не появилась в моей судьбе случайно, тем более это не просто место, где я тупо зарабатываю семье на жизнь, – это поистине дар Божий.
– Вы много лет снимаете и размышляете. Наверняка, Вы можете выделить наиболее запомнившиеся истории, связанные с произведением того или иного кадра.
– В Тверской области, километрах в пятнадцати от города Калязина, в ныне несуществующей деревне Кожино, на родине святого Макария Калязинского, вот уже десять лет живёт в небольшой келейке близ развалин храма, в котором покоятся мощи родителей и жены святого, одинокая монахиня Фомаида. Мы с ней дружим – и иногда, приблизительно раз в полгода, встречаемся выпить чаю и поговорить о жизни. Как-то раз, когда она ещё писала духовные стихи, матушка попросила меня перепечатать их на машинке.

Просфорники
Я ответил, что у меня есть машинка «Юнис» и, если матушка пожелает, я с удовольствием подарю её ей. Сказано – сделано: я привожу машинку, усаживаю матушку на табурет, у дерева. Перед ней, опять же на табурет, ставлю ярко-красную, как помидор, «Юнис». Отхожу, приседаю. И перед тем как нажать на затвор фотоаппарата, вдруг вижу перед собой удивительную картину: безбрежная даль, луга, синее небо над головой у матушки, красное пятно «Юниса».
Смотрю на эту картину и понимаю, что никогда в жизни ничего более совершенного и цельного я не видел. Передо мной – настоящий шедевр искусства. Не моего, естественно, – но Того, Кто какими-то непонятными и неисповедимыми путями привёл меня в Кожино, надоумил выстроить фотографию и заглянуть в глазок. Внутренне благодарю Его за всё, что пережил до этого: за всю радость и боль, которые мне пришлось испытать на своём веку, за долгие годы непонимания, почему всё идёт не так, как бы того хотелось, – благодарю и фотографирую.

По пути Иоанна Дамаскина.
А в общем, все фотографии были для меня по-своему дороги и интересны. В одной полузаброшенной деревне, в Костромской области, я зашёл в небольшой деревянный храм. И увидел перед собой удивительную картину: вдали, на стене, Богородичная икона, освещённая сверху неоновой лампой, а перед нею, спиной ко мне, стоят худосочный батюшка в стареньком облачении и две неуклюжие старухи. Одна просто стоит и молится, а другая, припав на колени, в скорбном бессилии опустила руки. Причём стоит она на коленях точно так же, как блудный сын на одноимённой картине у Рембрандта.
Я присел и сфотографировал эту сценку таким образом, чтобы две по- дошвы огромных бабушкиных сапог оказались на переднем плане, а Богородичная икона – немного левее и выше покрытой платком головы старухи. Это была моя первая фотография, снятая на православную тему. Я назвал её – «Возвращение». С неё-то как раз весь мой православный цикл фотографий и начался. И, слава Богу, пока всё ещё продолжается…

И. И. Жук - писатель, фотохудожник
 Юдкин Д.Н.
Юдкин Д.Н.
 Заказать книгу
Заказать книгу Написать письмо
Написать письмо Связаться со мной на Facebook
Связаться со мной на Facebook Связаться со мной на Одноклассники
Связаться со мной на Одноклассники Страница на Проза.ру
Страница на Проза.ру Страница Google+
Страница Google+